Язык, на котором молчат
В России наконец-то вышел блестящий роман о коротком периоде 1990-х, когда архипелаг ГУЛАГ казался затонувшим навсегда, — «Люди августа».
Московский писатель Сергей Лебедев пока лучше известен на Западе, чем в России. Его дебютный роман «Предел забвения», опубликованный в 2010 году, не преодолел лонглистов премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер», зато вышел по-английски, по-немецки, по-французски, по-чешски, по-итальянски и по-македонски. Второй роман «Год кометы» прошел почти незамеченным. Третий — «Люди августа» — вообще сначала был опубликован в Германии осенью 2015 года и только год спустя — в России. Для большинства российских издательств он оказался «неформатом». Тема всех романов Лебедева — непереваренное советское наследство репрессий.
Старые тайны и новое время.
Действие «Людей августа» начинается в 1991 году, с падением статуи Дзержинского: «Какие это были месяцы! В августе на Лубянской площади, где глухо стукнулся об асфальт Железный Феликс, общим было чувство, что здесь и сейчас рождается новая страна. Мы уже в ней, нам нужны лишь еще одно или два усилия, чтобы развязаться с печальным и мрачным наследием; нужна правда о прошлом — и мы не повторим ошибок, история пойдет новым путем». Однако новая страна, заплутав в родовых путях, приходит в конце повествования к сентябрю 1999 года, ко взрыву жилого дома в Москве на улице Гурьянова. «Люди августа» разбираются, в числе прочего и в том, как и почему это произошло. Период, обрамленный двумя этими поворотными для истории событиями, описан как новые темные века: хаос, безвременье, безвластие. Но и Клондайк новых возможностей, идеальная канва для авантюрного романа, которую автор разрабатывает на полную катушку, — от новых сюжетных поворотов не успеваешь дух перевести. Это особенно ценно в романе о важности исторической памяти, чей родовой порок вроде бы невольная серьезность и морализаторство. Но здесь происходит, так сказать, овеществление метафоры, и старые тайны выкапываются из земли часто в прямом смысле слова. «Есть поверье, что накануне конца света клады выйдут из земли, обнулится эпоха и все скрытое станет явным»: кто-то ищет Янтарную комнату, кто-то — «золото партии», кто-то — Рауля Валленберга. Герой Лебедева по кличке «Искатель» ищет могилы и память людей, сгинувших в лагерях, депортациях и войнах, по заказу их родственников. Все начинается с семейной хроники, которую в последние годы жизни пишет бабушка героя, а после ее смерти находится и дневник. Там внук обнаруживает, к своему потрясению, целую исчезнувшую Атлантиду — огромный род, еще недавно расселенный по всей России, от которого за семьдесят лет советской власти не осталось и помину. Следующее потрясение приходит, когда герой понимает: бабушка, редактор «Политиздата», написала «беловик» семейной истории, подходящий для жизни в бесконечном, как ей казалось, Советском Союзе. Обилие фактов в нем — что-то вроде дымовой завесы, скрывающей умолчания на месте старательно цензурированных опасных деталей и зияния на месте пропавших людей. А главное зияние осталось на месте деда, названного только одним инициалом. Это автобиографическая деталь. Как рассказывает писатель в интервью журналу SNC, хранившиеся дома ордена, как он думал, полученные его дедом за Сталинградскую битву, оказались наградами другого бабушкиного мужа, чекиста, вохровца, полученными за 1937 год. Куда делся дед — неизвестно: реальная фраза из дневника вошла и в роман: «Я решила, что в моем окружении и в окружении моего отца должно быть политически чисто», — и больше о нем нет упоминаний. С деда начинается и повествование: поиск мертвых в разных формах становится стержнем сюжета. Бабушка героя в Гражданскую войну ищет тело своего отца среди целого поезда новобранцев, вырезанных партизанами. В Чеченскую войну матери и жены ищут родных среди невообразимых фрагментов человеческих тел в вагоне-рефрижераторе. И так же герой собирает по фрагментам мертвых людей: их биографии, их могилы, однако в реальности земля не так охотно отдает своих мертвецов: все, что дальше, — фантазия.
Скелет империи
Герой Лебедева путешествует «по внутренним фронтирам СССР», по руинам империи, границам былой колонизации, осколкам рабовладельческой системы ГУЛАГа, скелет которой до сих пор задает исторические и географические векторы, как некогда система римских дорог, оставленная на завоеванных территориях, и заброшенные каструмы, ставшие европейскими городами: «А теперь люди отступали с прежних рубежей, оставляя брошенные города за Полярным кругом, обсерватории в Памирских горах, рудники и шахты, военные базы, метеостанции, полигоны». Новые дикари, вчерашние ударники труда и спортсмены-энтузиасты, теперь промышляют разбоем, поливая трассы машинным маслом и после грабя разбившиеся фуры, или собирают советские «сполии» — драгметаллы из приборов заброшенных полигонов, трубы и кабели, залегающие в земле, как полезные ископаемые. Это племена замиренные, рассеянные, депортированные, но тлеющие, как торф, и готовые вспыхнуть, — и вспыхивает Чечня. Это очень остроумно описано. Вот герой ищет в Казахстане проводника, который мог бы провести его через степь к безымянной могиле банды беглых ссыльных, но никто из местных жителей не сознается, что знает дорогу: «СССР уже три года как не существовал, и все местные жители быстро забыли о прежней жизни; они жили среди мародеров, бандитов так, словно это длилось уже вечность, словно не было никакого Советского Союза». Однако тут героя осеняет: еще три года назад мародеры и бандиты занимали определенные ячейки в советской системе, были рабочими, служащими. Нельзя преодолеть заговор молчания, замешанный на страхе, привычку на всякий случай не выдавать своих чужакам, но можно просто зайти в районную библиотеку и прочитать очерки о местных научных экспедициях с фотографиями заслуженных проводников. Старые колеи советской инфраструктуры облегчают поиск информации, а Госбезопасность, казалось, уже не может чинить препятствий: «Я догадывался, что это время не продлится долго; только сейчас, может быть, в нынешние дни открылись тропы в прошлое, которые закроются, когда минувшее снова начнет превращаться в упорядоченную картинку». В перестройку архивы ненадолго открылись и захлопнулись обратно, и это открыло возможности для поиска и осознания, которыми мы не воспользовались. Для того чтобы память была переварена обществом, она должна быть ферментирована литературными средствами, но парадокс в том, что этого не только не произошло, но в каком-то смысле не произошло закономерно: «Есть множество вещей, вообще исключенных из сферы обсуждаемого, есть язык, на котором молчат». Этой инстинктивной памяти страха можно противопоставить только память называющую. Об этом часто говорят как о чем-то само собой разумеющемся, но Лебедев показывает почему — очень точно и захватывающе.
Страх перед хаосом
Писатель, сын двух геологов, в 1990-е годы, с четырнадцати лет, работал в геологических экспедициях на Севере России и в Казахстане, по местам бывших лагерей и ссылок. Знание фактуры придает его книге достоверность и увлекательность, кроме того, Лебедев пишет прекрасно — напрашивается метафора про первую профессию геолога, научившую его обращению со словесной рудой, вообще вниманию к культурным слоям. Как признается его герой: «Кладбище было для меня в детстве личной школой стиля, единственно возможной в стране, где государство являлось, в том числе и стилистической монополией». И в книжке это чувствуется: не в том смысле, что слог ее старомоден, а в том, что там есть освежающее кладбищенское дуновение фантазии. Русские романы в последние годы очень уж отдают застоявшимся воздухом реальности: большинство книг о Советском Союзе попадает в ловушку того самого советского стиля, на котором молчат, исключающего возможность дистанции. Именно фантазия компенсирует в литературе полноту взгляда реального человека, со всеми его суевериями, иносказаниями и недомолвками. Это погружение в темные слои языка, хранящие то, о чем вслух не говорили несколько поколений, извлекает на свет магическое сознание, растущее откуда-то из земли, где вперемешку посеяны бок о бок покойники, враждовавшие при жизни, взывающие к отмщению и, кажется, переселяющиеся в живых: «Я не верил этим толкам, но верил в правду ощущений, их породивших». Там хранится страх перед хаосом, который перевешивает страх перед Госбезопасностью; стремление людей вернуться к привычной форме жизни за колючей проволокой. Воплощение этого духа — страшный «Песий Царь», бывший лагерный кинолог, живущий в тайге в заброшенной зоне, где он скрещивает караульных солдат с волками и собирает по окрестным деревням бродяг и беспризорников — «контингент», который можно охранять, потому что другой жизни он не знает (в каком-то смысле это вывернутый наизнанку сюжет повести Георгия Владимова «Верный Руслан», которая в СССР впервые была опубликована в 1989 году, а как раз в 1991-м по ней был снят фильм — редкий и знаменитый пример осмысления темы репрессий литературными средствами). Не коммунистическая угроза, а советское сентиментальное наследство, «щемящее чувство родства» от сочетания хлебного запаха и колючей проволоки — главная и неизжитая болезнь общества, по мнению Сергея Лебедева: достаточно напомнить о нем парой политических сроков, и инстинктивная привычка к неназываемому страху берет свое. В интервью немецкому изданию Die Welt писатель замечает: «Если Сталин вынужден был бросать в тюрьмы сотни людей, то сегодня Путину достаточно посадить за решетку одного для того, чтобы добиться того же эффекта. Украинский режиссер Олег Сенцов недавно был приговорен к 20 годам тюремного заключения. Это сталинский тюремный срок, и иначе его нельзя назвать». В этом-то наполовину мифическом, наполовину очень практическом смысле ненайденные, неоплаканные и непохороненные не находят покоя и вселяются в живых. Проходящая лейтмотивом хрестоматийная строчка «Жди меня, и я вернусь» отзывается: «Глядь, Светлана... о творец! Милый друг ее — мертвец!» — только счастливое пробуждение все не наступает. А за новым секретарем Совета безопасности, «человеком с короткой телеграфной фамилией, похожей на оперативный псевдоним», слышатся возвратные шаги снесенного вроде бы Железного Феликса.
По материалам журнала The New Times, № 29 (417) ОТ 12.09.16
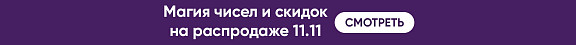
.png.webp)


