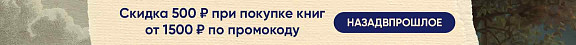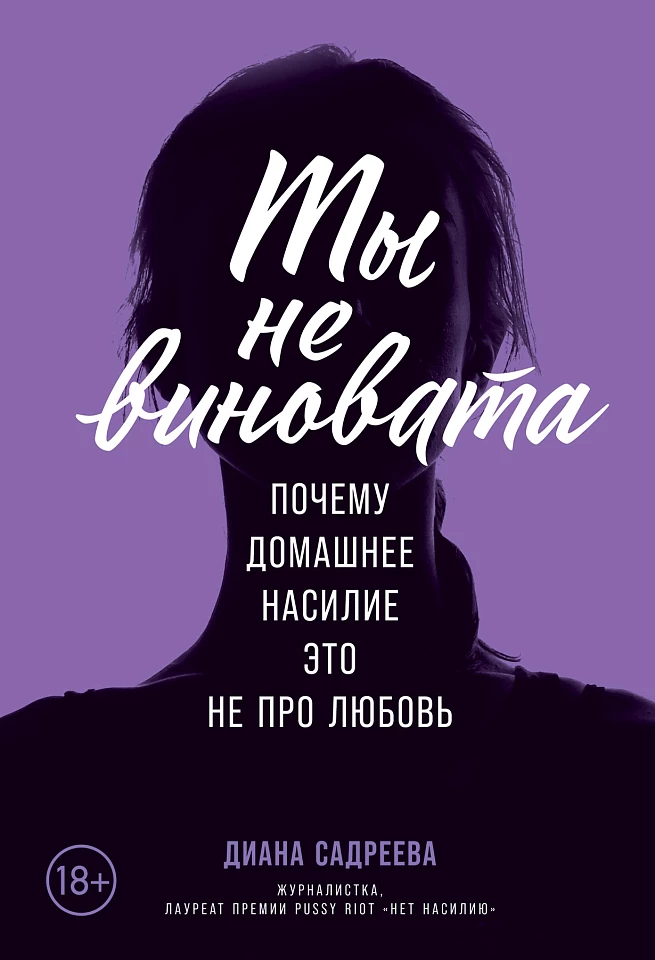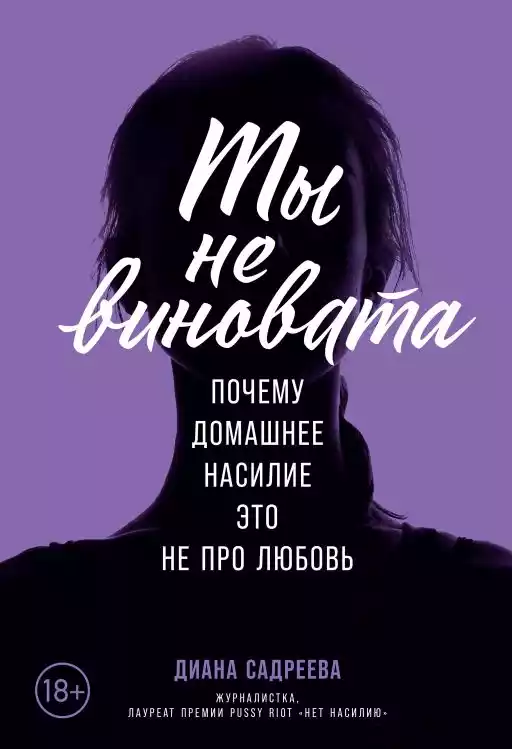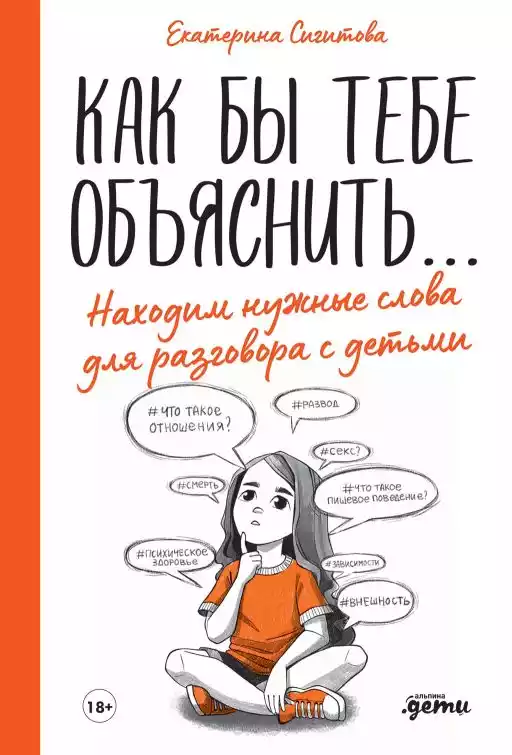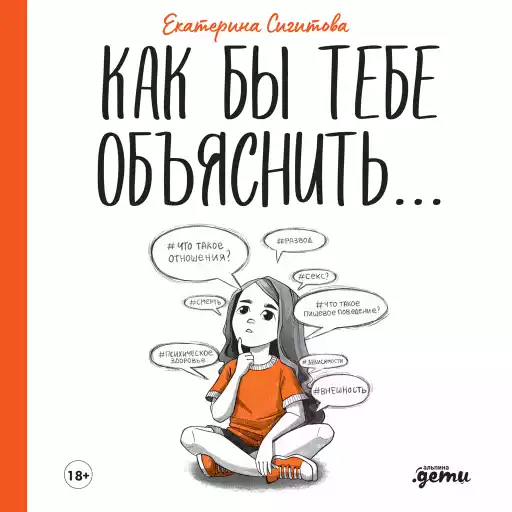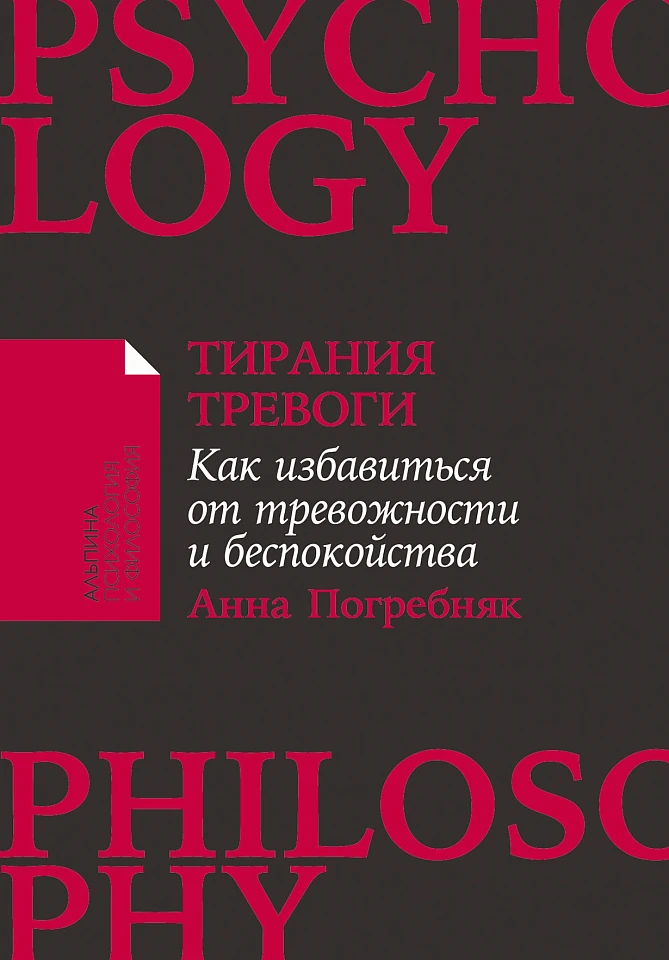«Когда работаешь психологом, иногда ощущение, что у тебя руки по локоть в крови»
Клинический психолог и сексолог Наталья Фомичева ведёт частную практику с 2007 года. «Близость» — её первая научно-популярная книга о сексе как языке общения близких людей, о взаимном удовольствии и партнёрской норме. Журналист Иван Сурвилло расспросил Наталью о профессиональной выгорании, разговорах с детьми о сексе, расстройствах пищевого поведения и счастье в домике у моря.
Как тебе пришла идея написать книжку?
Во-первых, когда я начала заниматься сексуальными расстройствами, то столкнулась с тем, что на русском языке адекватной литературы практически нет. Всё пришлось переводить. Во-вторых, мои студенты очень часто спрашивали, что почитать, а потом стали спрашивать и клиенты.
Сейчас стали появляться книги, которые в целом мне нравятся, но решила, что оформить в какой-то печатный документ мои знания — тоже не будет лишним.
Сейчас начали появляться книжки, но всё равно чего-то не хватает среди них?
Да. В России есть либо очень научные учебники по сексопатологии, либо попсовая литература, где секс сводится к каким-то техникам. Книг про то, как сексуальность разворачивается между людьми с точки зрения психологии — нет. Можно найти книги по анатомии сексуальности (что конкретно происходит в теле, какие импульсы по каким нервным путям идут, кровенаполнение каких частей тела происходит), но они обычным людям не дают понимания, что вообще происходит в сексуальном контакте. Я постаралась этот пробел заполнить.
Как ощущения от работы с «Альпиной»?
Очень интересные. Я никогда до этого не делала подобных продуктов. Была научным редактором одной книги и приблизительно представляла, как работает издательство, но как оно работает с автором, я не знала. Когда ты автор, то ты видишь книгу своими глазами. А команда «Альпины» помогла понять, как её будет видеть конечный потребитель. Я здесь очень им благодарна, потому что то, что я сделала бы сама, я бы сама и читала. Взгляд со стороны необходим.
Как издать свою книгу в «Альпине»? Отвечаем на главные вопросы
Куда отправлять рукопись, кто будет ее оценивать и что вас ждет, если всё получится
Если возвращаться к истории с написанием книжки, кроме того, что её можно рекомендовать почитать студентам, — зачем она?
Хочется донести до людей, что секс — не механика, не насилие. В России большой уровень насилия в близких отношениях. Многие люди в силу культуры, в которой мы растём, считают, что это нормально. Есть «супружеский долг», девочек воспитывают с мыслью о том, что мужу надо «давать». Мне очень хотелось показать, что это разрушает сексуальность и приводит к сложностям в психике. Возможно книжка для кого-то будет поводом пересмотреть воспитание своих детей.
Я с 2007 года работаю с людьми и каждый раз встречаюсь с таким большим количеством боли в этой области (а понятно, что все не могут ко мне прийти). Мне очень хочется, чтобы те, кто не может себе позволить обратиться к специалисту, хотя бы видели, каких взглядов придерживаются профессионалы.
А ещё я писала в фейсбуке, что, когда была маленькая, спросила у родителей, можно ли мне не менять фамилию, когда выйду замуж. Родители сказали: «Конечно, можно, а почему ты спрашиваешь?». Я объяснила, что у нас в роду не было писателей и я хочу написать книгу, чтобы она была подписана нашей фамилией. Понятно, что я не держала в голове эту идею весь свой жизненный путь (тогда мне было четыре), но для меня книга — способ поговорить сразу с большим количеством людей.
А ты не думаешь, что этот разговор — проповедование к уже обращённым?
Не думаю. Мне кажется, что иногда человек встречается с информацией, на которую он может опереться для принятия дальнейших решений, как-то очень случайно. В случае с домашним насилием, сам факт того, что тебе говорят, что происходящее с тобой не очень правильно, уже может стать точкой опоры. Как в сказке: страх надо назвать. Помнишь чудовище, которое приходило в деревню, и от него избавились, когда узнали его имя? Когда появляется возможность назвать происходящее неправильным и понять, что есть другой путь — это уже может быть толчком.
Что было самым сложным в процессе написания книги?
Книгу очень оживляют истории из жизни, но этические требования подразумевают, что психотерапевт не имеет права разглашать клиентские истории, поэтому довольно сложно было создать собирательные образы. Нужно было постараться сделать их такими, чтобы они были одновременно многим понятны и узнаваемы, но при этом не вызывали ощущение, что это какой-то конкретный Вася, который ко мне приходил. Совместить этику и интерес для читателя — довольно сложно.
Ты сказала, что на тебя как на психолога обрушивается большое количество боли. Как ты справляешься с ней?
Когда работаешь психологом, после некоторых сеансов ощущение, что у тебя руки в крови по локоть. Но есть простые обязательные способы: работа с супервизором, личная терапия, тренировка навыков осознанности и безоценочности («да, это происходит, но я могу в этом находиться и выдерживать»). И, конечно, забота о себе: всегда должно быть время, свободное от работы («халат снял, вышел из кабинета и работа закончилась»), забота о собственном психическом и физическом здоровье и благополучии.
Были ли за время практики истории, когда правило «халат снял, вышел из кабинета — работа закончилась» нарушалось?
Когда я начинала работать, то сразу понимала, что так надо делать, иначе я буду разрушаться. Никому не будет пользы от того, что я выгорю. Иногда, конечно, бывают ситуации, когда ты возвращаешься мыслями к какой-то болезненной истории клиента. Но тогда необходима внеочередная супервизия.
Меня часто спрашивают, есть ли люди, которые никогда не изменяют своим партнерам. Я не видела пар за свою практику, где бы измен не было, но прекрасно отдаю себе отчёт, что пары, у которых нет измен, ко мне не приходят. Мир не заканчивается на людях, которые приходят ко мне в кабинет, и на тех историях, которые мне приносят.
Есть счастливые и здоровые люди, но просто я их на работе не вижу. И эта идея тоже позволяет сохранять спокойствие и стабильность.
Ты сказала, что бывают сеансы, после которых у тебя ощущение, что руки по локоть в крови. Можем подробнее поговорить об этом?
Это сеансы, когда люди рассказывают очень тяжёлые истории, связанные с насилием. Например, у меня была история в Казахстане, где после группового изнасилования дочери мать вручную зашивала ей разрывы. И она про это рассказывала.
Причём, у нас же есть механизм диссоциации, когда мы как бы отсоединились и это словно не с нами происходит. И когда клиент, в этом диссоциированном состоянии, с абсолютно каменным лицом рассказывает про то, что, на мой взгляд, в принципе не должны делать люди — это очень тяжёлое ощущение.
Когда я сталкиваюсь с ужасами, которые люди творят относительно друг друга — мне нужно буквально это всё принять, посочувствовать, не свалиться самому туда, а наоборот вытащить человека и удержать его, каким-то образом подсобрать клиента, дать ему веру в то, что это не конец и можно жить дальше.
Ты не сваливаешься, потому что ты осознанно понимаешь, что вот — его боль, а вот — я и моё тяжёлое ощущение от неё?
Во-первых, я понимаю, что это в любом случае в прошлом, не происходит прямо сейчас и, если я туда провалюсь, никому лучше от этого не будет. У меня есть задача терапевтическая и она про то, чтобы удержать клиента, а не свалиться рядом с ним. Во-вторых, да, я разделяю чувства клиента и свои переживания, это профессиональный навык, которому учат психологов.
Расскажи, как ты стала психологом.
У меня очень нетипичный путь прихода в психологию, если сравнивать с большинством людей.
По первому образованию я пиарщик. Я очень много занималась различными ивентами, в рамках которых мне нужно было проводить тренинги для персонала. В какой-то момент мне стало тесно. Я просто выгорела. Работа требовала меня 24/7, я не распоряжалась своим временем и постоянно что-то происходило: где-то отвалился кусок стенда на выставке, где-то консультанты не вышли в магазин, где-то клиент внезапно в три часа ночи решил, что мы переделываем всю концепцию. Я устала.
PR-образование у нас тогда было очень специфическое: пиарщиков готовили либо как журналистов, либо психологов по работе с массами. У меня был второй вариант. Я пошла в аспирантуру по социальной психологии и, параллельно проводя тренинги, стала понимать, что хочу глубже, что истории про эффективные продажи мне скучноваты.
Я стала интересоваться психологическими тренингами. Именно в то время в России появился Lifespring, я пошла туда и впечатлилась.
Расскажи о Lifespring
Технология Lifespring — сплав гештальт-терапии с трансактным анализом и гипнотерапией. Интенсивное терапевтическое воздействие, которое имеет очень большой ряд ограничений.
Основная проблема Lifespring в России — в жадности. Это хорошая методология, если человек, который туда пришёл, абсолютно психически здоров. Не в том смысле, что он не имеет тяжелых психических расстройств, у него не должно быть даже невротических расстройств. К тому же есть очень жёсткие требования к участникам: нельзя приходить со своими друзьями, знакомыми, особенно мужьями или женами. В Москве на тот момент всё происходило не так. Я ассистировала на тренингах, где были пары и люди с очень нестабильной психикой, и для них всё это заканчивалось плохо. Проблема в том, что организаторам хотелось денег.
Российский Lifespring, как и многие структуры, придерживаются принципа, что боль клиента приносит деньги. Соответственно, ты не можешь вылечить клиента до конца, потому что тогда он уйдет.
Поэтому там очень много этого «недо-», «бомбардировка» любовью, когда участники тренинга становятся твоей новой семьей и ты уже не можешь оттуда уйти. С точки зрения психотерапии — это грубое нарушение этики. Задача психолога — научить клиента самого справляться с собственной жизнью и решать свои проблемы, а не втягивать его в пожизненную терапию.
Сейчас уже не знаю, что там происходит. С Lifespring я давно не взаимодействую. Ушла оттуда очень быстро, когда поняла, что на самом деле там происходит. Не могу делать вещи, которые противоречат моим ценностям, но это был хороший опыт. Пришло понимание того, что более качественные и глубокие изменения достигаются всё-таки в индивидуальной работе.
Для меня вообще важна идея гармонизации тела и психики. Нельзя работать только с психикой, обязательно нужно подключать телесность. Эта идея привела к тому, что основные запросы, с которыми люди стали обращаться, находились на стыке тела и психики. Например, я переедаю и толстею, я беспокоюсь и не получаю оргазма — этот сплав был мне всегда интересен, потому что я плохо себе представляю, как это можно разорвать и рассматривать по отдельности.
Изначально я изучала пищевое поведение и постепенно стала обнаруживать, что если всё плохо с пищевым поведением, то с сексом тоже всё плохо. Невозможно научить человека получать удовольствие от еды, не затронув тему секса. Невозможно помочь человеку переработать стыд в отношении собственного тела исключительно в контексте того, что «Я толстый, я много вешу». Там всё равно начинают всплывать сексуальные аспекты. Я даже в книге пишу про еду и секс в одной из глав, потому что для меня это сложно разорвать.
Хочу вторую книгу по нарушению пищевого поведения теперь написать.
А про что именно?
Я хочу написать книгу про анорексию. Я много работаю с девочками-подростками, которые болеют анорексией. Это очень тяжелая работа, потому что у нас в России нет комплексной системы помощи.
Я всегда завидую, когда западные коллеги рассказывают про систему комплексного подхода. Например, есть центр в Канаде, где на территории стационара есть магазины и рестораны. Специалист-психолог идёт с девочкой в ресторан, они вместе сидят, она выбирает еду, ест её, а он находится с ней в контакте, помогает справиться с чувствами. Там есть гипнотерапия, йога, дыхательные техники, семейная терапия... Пациент попадает в систему и это суперважно. Анорексия — очень тяжёлая болезнь и одному специалисту справиться с ней сложно. Я обычно работаю с врачами-психиатрами в тандеме, но этого всё равно мало.
Двадцать лет назад родители детей с аутизмом чувствовали, что они изгои, им приходится со всем справляться в одиночку, они сталкивались с огромным количеством стыда за аутизм своего ребенка. Сегодня уже существует мощное родительское сообщество, где есть взаимная помощь и поддержка.
С анорексией сейчас происходит то же самое, что двадцать лет назад с аутизмом. Если в семье ребенок заболевает анорексией, то родители думают, что они виноваты, недосмотрели, им безумно стыдно это куда-то вообще вынести, с кем-то поделиться.
Мне хочется написать книгу и поделиться тем, откуда вообще анорексия берётся, что в ней никто не виноват, что есть инструменты помощи, что родители могут участвовать в процессе лечения, организовывая питание ребёнка по терапевтическим протоколам и, самое главное, что нервная анорексия — не позор и вина, а заболевание, возникновение которого мы не можем контролировать.
Ты сказала, что с анорексией работаешь в тандеме с психиатром. Расскажи, как это происходит
Если пациент приходит ко мне, я говорю, что нужно ещё дополнительно обратиться к психиатру. Это обязательное условие нашей работы.
Во-первых, при нервной анорексии человек может параллельно иметь депрессию, тревожное расстройство и т. д. Во-вторых, при нервной анорексии могут быть сверхценные, бредовые идеи и там без препаратов бывает сложно. К тому же нередки случаи, когда у девочек три-четыре попытки суицида в анамнезе, здесь тоже необходима консультация психиатра.
Пациентки идут к моему психиатру, консультируются, мы с психиатром на интервизии обсуждаем стратегии лечения. Психиатр говорит, какие он назначил препараты и какие будут побочные эффекты. Я говорю о том, что вижу такие-то мишени в терапии. Он может согласиться, а может сказать, что нужно что-то ещё. В случае ухудшения состояния я или психиатр может решить, что пора госпитализировать.
Были ли у тебя случаи, когда клиентки убивали себя?
Именно суицидов не было. У меня было две клиентки, которые умерли от истощения, точнее, одна от туберкулеза, а у второй отказали почки.
Как ты переживаешь это?
Конечно, я расстраиваюсь. Это всегда печально. С другой стороны, я понимаю, что анорексия — болезнь, у которой больше козырей, поэтому это неравный бой. Это болезнь с самым высоким уровнем смертности среди всех психиатрических расстройств. Это очень печально, но мы правда не можем всех спасти.
Бывает, что пациентки занимаются самоповреждением, но до суицида не доходит. В любом случае, я потом разбираю такие случаи: что происходило с пациенткой, где были другие возможности. Ухудшения бывают: анорексия динамична, состояние может меняться, и это тоже не всегда предсказуемо. Я стараюсь это принимать.
Так бывает, я не всемогущий терапевт. Если я буду думать, что я всемогущая, то это кончится злокачественным нарциссизмом и не поможет клиенту. Для клиента, на самом деле, тоже терапевтически важно встретиться с тем, что терапевт где-то беспомощен.
Нужно ли говорить с детьми о сексе?
Конечно, с детьми важно об этом говорить. Причем спокойно. Когда ребёнок видит, что у родителей нет ужаса и стыда по поводу сексуальных вопросов, у него формируется отношение, что секс — это обычная часть жизни и там нет ничего страшного.
Я могу сказать, что основная идея, которую транслировали мои родители: «Это то, что ты делаешь по желанию и для удовольствия». У меня очень много благодарности к родителям. Они умудрились как-то внедрить в меня понимание того, что «зачем заниматься сексом, если это не приносит удовольствия?».
На самом деле, когда я начала работать и встречаться в своей практике, с тем, что у людей по-другому, я очень удивлялась в первое время. Когда ко мне приходили женщины и рассказывали о том, что «Да, мне не нравится с ним заниматься сексом, но он мне за это что-то покупает», я думала про себя: «В смысле?! Зачем это делать?».
У меня до сих пор хранится моя первая книга про секс. Когда я была маленькая, мне родители её принесли, я её прочитала, потом приходила к ним с вопросами. Это очень хорошее издание, французское. А потом, в подростковом возрасте, была книга Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Это уже было гораздо страннее, но тем не менее. Мы тут с папой недавно смеялись.
Я говорю: «Пап, ты понимаешь, что всё из-за тебя — ты принёс мне тогда эту книгу, и оно вылилось в то, что я решила написать свою». Посмеялся. Говорит: «Я рад, что это всё заложил».
О чём ты мечтаешь?
У меня есть глобальная мечта — снизить уровень психической нестабильности. Хочется, чтобы все стали поспокойнее и поустойчивее. Просто это должно стать неким фокусом и для этого нужны ресурсы. Одна я не уменьшу этот фон.
Из-за того, что сейчас тревога высокая, люди очень агрессивные. Спускаешься в метро, и там на ровном месте реально случаются акты физической агрессии. Я понимаю, что люди это делают, потому что они боятся. Для того, чтобы люди перестали бояться, нужно прилагать усилия не только мне.
А как не испытывать эту тревогу?
Фокусироваться на том, что происходит здесь и сейчас. Тревога ведь про будущее: я думаю, что есть вероятность плохого исхода. Проблема в том, что эта вероятность есть всегда, и мы не можем её просчитать. Плохой исход может наступить вне зависимости от того, тревожимся мы о нём или нет.
Плюс, конечно, контакт с телом. Невозможно тревожиться и быть телесно расслабленным. Если человек умеет входить в состояние расслабленности, если он изучает, что у него происходит с телом и сознательно убирает гипертонус, то он становится менее тревожным.
Я всегда завидую, когда попадаю в маленькие ресторанчики в Европе, где хозяин говорит о том, что мы восемьсот лет здесь работаем, этот ресторан открыл мой пра-пра-прадед и это наша семейная история. У людей есть уверенность, укорененность в их жизни. В нашем государстве, где реновация, где в любой момент снесут твой дом, куда-то тебя переселят — сильно ощущение, что ты вообще ничем не управляешь.
У меня иногда возникает фантазия, что мы для власть имущих как компьютерная игра: что-то на кнопочки тыкают и не видят, что за этим стоят живые люди.
Ты уехать не думала?
Думала. Периодически я изучаю какие-то варианты, но пока только изучаю. С другой стороны, я понимаю, что всё равно большая часть моей работы — здесь. Можно, конечно, всё перевести онлайн, но я схожу с ума, если разговариваю с монитором больше трёх часов подряд.
Это к вопросу о том, о чём мечтаю. Я глобально немного анархист: мечтаю о том, чтобы не было границ и чтобы у людей была свобода выбирать, где и как им жить. Закрытые границы меня фрустрируют. Я плохо воспринимаю ограничения свободы. Причём не в контексте тревоги, а в контексте злости. У меня очень много злости появляется, когда я с сталкиваюсь с ограничением свободы. Я не понимаю, почему кто-то должен контролировать, здорова я или нет, имею ли я право куда-то ходить или ездить.
А так — хочу в старости жить где-нибудь на берегу моря. Хотя, подозреваю, что я устрою там революцию. Жить спокойной жизнью я долго не смогу. Может быть, к старости устану.
«Долго не сможешь» в каком смысле?
Я очень деятельная, мне всё время нужна какая-то движуха. С одной стороны, я могу иногда жаловаться, что у меня опять куча работы, а с другой, мне так это интересно делать.
Я не тот человек, который едет с компьютером в отпуск, но мне надо что-то делать. Думаю, что пока спокойная жизнь совсем не для меня. Мне очень нравится ездить, у меня много программ по разным городам России. Когда был карантин, через две недели я поняла, что без самолёта уже начинаю ерзать — мне надо собраться, полететь, поменять дислокацию. Карантин мне сложно дался, потому что резко снизилось количество движения.
А почему домик именно у моря?
Я очень люблю природу. У меня был период, когда я очень много времени проводила в Болгарии и для меня контакт с природой очень наполняющий. Я обожаю ходить босиком, могу часами гулять по берегу по колено в воде, долго сидеть и перебирать ракушки. Для меня море и морская природа очень ресурсны.
Ты счастлива сейчас?
Да. Я очень счастлива.
С одной стороны, я понимаю, что мне жутко повезло. Смотря на своих клиентов, я поняла, что тема привилегий очень важная. Я росла в семье, где любили меня и мы все любили друг друга. У меня огромная семья и столько родственников, что если мы все собираемся, то это человек сорок минимум.
В моей жизни никогда не было отношений, про которые я могла бы сказать, что они были ужасные, меня абьюзили и я ненавижу своего бывшего. Я изначально шла по жизни с такой базой, которая не позволяла мне начинать взаимоотношения с людьми, если они могли плохо со мной обойтись. Это огромный бонус, и я понимаю, как мне с этим повезло.
Твои минусы как терапевта?
Темп. Я быстрая и иногда ловлю себя на том, что начинаю подгонять клиента. Мне хочется, чтобы он быстрее уже всё менял и вообще действовал, но в этот момент я говорю себе: «Стоп! Может быть, ты, будучи на его месте, сделала бы по-другому, но ты сидишь тут».
Я могу сказать, что есть клиенты, с которыми мне сложно, и в этих случаях я отказываюсь, говорю прямо: «Я не подхожу вам как специалист». Как правило, это люди с выраженной обсессивно-компульсивной структурой личности. Я понимаю, что есть специалисты, которые прекрасно с этим работают, у них есть похожие черты и они понимают и чувствуют такие особенности. Но я начинаю раздражаться и понимаю, что, опять же, клиент не пришёл за тем, чтобы я на него раздражалась.
Что ты поняла про людей за всё время работы?
Что они все разные и одновременно одинаковые. У каждого есть уникальный опыт, который неповторим, но при этом каждый чувствует боль, встречался с утратой, может быть счастливым, радуется и огорчается. Одновременно абсолютное отличие и абсолютная похожесть — это, наверное, то, что позволяет быть в контакте с другими.